Прислушайтесь. Он говорит тихо, и слова его шелестят. Он бубнит чуть тише настенных часов, клацающих стрелкой. Четыре утра. На кухне пахнет корвалолом, но едва ли это запах спокойствия.
У дряни, что лежит в прихожей, много имен. Она пришла ночью, зашурудив ключом в замке, и как только дверь открылась, святые на иконах развернулись лицом вовнутрь. У дряни был безобразный вид.
Если страх смерти слабее ужаса, видимого наяву, человек предпочитает смерть. Свою, чужую — неважно: обезумевшие люди выбрасываются из горящих небоскребов, похищенные жертвы выпрыгивают из несущихся автомобилей, избитые дети подмешивают родителям в спирт нержавейку. Однако, послушайте, что он говорит:
— …Господи, спаси и сохрани… Господи, спаси и сохрани… Господи, спаси и сохрани…
Дрянь мертва уже несколько часов. Он не смотрит в ее сторону, опустив голову на колени. Ощущение, что из прихожей вот-вот донесется хрипящее «…с кем разговариваешь?…». В тишине страшнее, поэтому он продолжает говорить:
— …Господи, спаси и сохрани… Господи, спаси и сохрани… Господи, спаси и сохрани…
***
Он родился в тысяча девятьсот восемьдесят шестом — в чрезвычайно неприятное время: двадцать девятого января на Землю упал неопознанный красный шар, известный как «Инцидент на высоте 611»; шестнадцатого января в туманах Антарктиды рухнул обледеневший Ил-14; двенадцатого марта на станции Судженка столкнулись поезда; началась афганская война; двадцать шестого апреля взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС; тридцать первого августа затонул круизный пароход «Адмирал Нахимов»; двадцатого сентября дезертиры захватили Ту-134; четырнадцатого ноября случилось самое масштабное в истории страны ограбление инкассаторов.
За год до его рождения особых происшествий не происходило — через год тоже, — а в тысяча девятьсот восемьдесят шестом он сам чуть не стал происшествием. Очередным, будничным — такие происходят каждый день. Их замечают спасатели, пожарные, полицейские, медики, работники ритуальных контор, журналисты и жадные до эмоций люди, смакующие новостные колонки о несчастно погибших.
Днем мать стонала от боли в пояснице. Медсестра принесла в палату кардиотокограф — небольшой прибор, регистрирующий сердцебиение ребенка. Она закрепила датчики на большом животе с синими венами и посмотрела на ничего не показывающий экран. Кардиотокограф, который обычно гремел, как печатная машинка, выплевывая бесконечную ленту с кардиограммой, молчал.
— Что? — спросила мать.
— Подождите, — Медсестра выбежала в коридор и вернулась в палату с санитаркой.
— Дура, — сказала та, глядя на прибор. — Ты не воткнула его в розетку.
Он родился с обвитием. Не кричал, как кричат младенцы, в первый раз надувая легкие, и был синим, будто измазался в жимолости. Врачи уложили его на столик и поднесли к лицу дыхательную маску. Дрянь, что тридцать восемь лет спустя будет лежать в прихожей, притаилась рядом.
Поздним вечером, когда ему едва исполнилось пять, он смотрел телевизор с матерью — шла скандальная программа с простым сюжетом: изнасилование, ранняя беременность, нищета. Ведущая удивлялась, сдвигала брови и охала вместе с залом. Был тысяча девятьсот девяносто первый год, и подобные телепередачи зачаровывали всех, даже детей. Мать прибавила звук и посмотрела на сына. Потом взяла лежащую рядом игрушку и сказала:
— Смотри.
Она дернула плюшевый хвостик, и на телевизоре поменялся канал.
— Ооо.. еще!
Это была магия. Самое настоящее волшебство.
— Еще-еще!
Мать достала из-за спины пульт и помахала им, продолжая переключать каналы. Сын замолчал. Волшебство исчезло — растворилось, оставив лишь сухость в горле. С этого момента он перестал верить в чудо, и оно навсегда пропало из его жизни. Дрянь, конечно же, смеялась.
Через год мать начала пить. Бутылка дешевого шампанского раз в неделю — ничего особенного, но женское пьянство, по праву, самое коварное пьянство. Она работала вахтершей в общежитии. Сына брала с собой — там он смотрел криминальные сериалы про несчастных оперативников. Потом пошел в первый класс.
В школе ему не нравилось. На утренних уроках было холодно, а днем разгоряченные ноги зудели в кальсонах — непонятно, почему он их не снимал. В его жизни вообще было много странностей: он любил пить воду с медом (мать морщилась, когда находила в раковине пустую кружку с противным осадком) и не принимал изъянов в игрушках. Если на солдатике удавалось разглядеть маленькую точку от заливочной формы или стертую краску на мундире, он незамедлительно прокусывал солдатику лицо. Мать находила на игрушках (в том числе, металлических) следы от маленьких зубов, но почему-то молчала — наверняка, по той же причине, по которой ее сын не снимал кальсоны в двадцатиградусную жару.
В пятом классе он влюбился в одноклассницу Таю. Влюбился, когда она его разлюбила. Девочка тогда сказала удивительно по-взрослому:
— Ты очень хороший и все такое… В тебе много красок, куча всяких оттеночков… Но в последнее время все цвета смешались, и теперь ты какой-то серенький…
Больше он не пытался с ней говорить. Не хотел лезть. Дрянь нашептывала, что еще не время. Он послушался ее неясных слов, так и не узнав, что хуже — призывать к взаимной любви или взаимной нелюбви.
Мать продолжала пить. На этой почве сблизилась с одиноким соседом Валерой — дальнобойщиком, приезжавшим в город по четным неделям. Сын сидел в своей комнате, слушал стук стаканов и редкие смешки. Детская привязанность будила гнев, когда Валера, шатаясь, уводил мать в спальню. Однажды мальчик сказал:
— Я хочу, чтобы мама спала со мной.
— Ей плохо.
— Пусть спит у меня. Или я могу прийти к вам…
Сосед завел мать в комнату, зашел сам и повернул защелку.
— Открой, — мальчик забарабанил по двери. — Открой!
— Я только уложу ее, — раздалось из спальни.
— Открывайте! Мама! МАМА!
Валера выскочил в одетых задом-наперед трусах и сказал:
— Ложись, она придет. Обещаю.
Он пролежал до утра и закрывал руками уши, даже когда из спальни был слышен лишь храп. Так он пережил многие ночи, и хотя потом они все слились в одну неприятность, он ничего не забыл. Дрянь никуда не исчезла — она лежала в другой комнате, пугая скрипом кровати.
Шли годы, а вместе с ними пришло смирение. Валера появлялся все реже, а потом и вовсе пропал. Мать пила в одиночестве. Сын пытался поговорить, но без толку. «Не выдумывай, — отвечала она. — Я столько для тебя делаю!» С последним можно было согласиться.
Тая нравилась ему до девятого класса, и временами, до неприличия возбужденный, он не мог подняться из-за парты. Пережить чужую сексуальность было непросто. Одиночество и растерянность сплотило его с одноклассником Костей — ничем не увлекавшимся, ни к кому не имевшим претензий и жившим в ожидании прекрасных девушек, носатым парнем. Младшеклассники уважительно смотрели на них, ревнуя к школе. Друзья не понимали этих робких взглядов, чувствуя себя тут гостями — неведомо откуда зашедшими, боящимися встать в неположенный угол и прячущими за спину руки, потому что матери зашили им карманы.
Перед экзаменами они отстранились друг от друга, и никто ни к кому не навязывался. На выпускной Костя явился cо свежей татуировкой, желтой кожей и взглядом, будто пересмотрел на испачканный ершик. Он повесился через четыре месяца, оставив на прикроватном столике странный стишок:
В меня уже не лезет чай
И кляп раскусанный срастается обратно
Нечаянно пришла зима
Все круглое теперь — квадратное
Жизнь неотесанная, острая
Луна куском — неаккуратная
Я дома, как на острове пустом
И джунгли неприступные — парадная.
Хоронили в спешке. Дешевый гроб из сосны опустили в яму, закидали землей и увековечили фотографией с траурной лентой «ОТ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ».
Начался осенний призыв. Отправляя сына в армию, мать рассказала ему все, что знала о службе: «Тебя будут бить, — говорила она, — и заставлять курить сигареты, пропитанные прокисшим молоком. Из еды — супы без мяса, переваренная гречка и невкусные котлеты. Я буду слать нормальную еду, но никому ее не показывай».
В ракетных войсках он отслужил достойно, только сильно похудел от нагрузок и недосыпа. Вышел младшим сержантом, наводчиком. Никто его не бил и не унижал. Подтвердилось древнее правило, рожденное с первым на земле человеком: то, чего ты ожидаешь, обычно не случается — случается непременно то, о чем ты не мог подумать. В армию дрянь идти не решилась.
Отдых затянулся на три года. Он устроился сторожем на рынок — сидел в будке у центрального входа и смотрел фильмы (по ночам — порнофильмы) на портативном DVD. Изредка наблюдая за посетителями в окошко, ловил презрительные взгляды — людям не нравилось, что им не доверяют. А может, они видели что-то неприятное за его спиной.
Он ненадолго увлекся наркотиками — марихуаной, смешанной с синтетикой. Ее подсунул Максим, сменщик на вахте. Он отдал всего семьдесят грамм пыли со дна пакета, но этого хватило, чтобы в будке поселилась пластиковая бутылка с прожженными отверстиями. Прямо как укусы на неисправных солдатиках.
Очередным утром кто-то постучал в окошко. Он оторвался от фильма и открыл.
— Говорите.
— Не подскажите, где Максим?
— А что вас интересует?
— Он домой не приходил. Я Настя, сестра. Может, знаете.
— Без понятия. Скоро смена кончается.
— Поняла…
В следующий раз они встретились на похоронах. Максима нашли на пролете последнего этажа в старом многоквартирном доме. Неизвестно, отчего он в итоге погиб — то ли от ударов, пока катился вниз, то ли от наркотиков. Хоронили в спешке. Дешевый гроб из сосны опустили в яму, закидали землей и увековечили фотографией с траурной лентой «ОТ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ».
— Я не знала, что вы хорошо общались, — сказала потом Настя.
— Мы неплохо ладили, — соврал он. — Можно сказать, дружили.
Спустя полгода, решив, что брат отгореван, он позвал ее на свидание. Потом попробовал вновь. Он не был романтиком, и имел исковерканные представления о любви и сексе. Однажды, стоя на мосту рядом с влюбленной парочкой, до него донеслось:
— Чем ты видишь этот закат?
— Мне кажется, это веко дракона, которое вот-вот разомкнется и покажет огромный глаз.
— А я вижу его нами. И еще космосом. Глубоким и бездонным. Я вижу этот закат нашей планетой, которая скрывается от жара Солнца и поворачивается к прохладной вселенной…
Его чудом не вырвало. Дрянь поддержала.
Через два года он устроился в салон мобильной связи. Равнодушно пробивал Nokia 5000 и Sony Ericsson W910i вместе с сим-картами по двести пятьдесят рублей. Как-то раз в магазин зашел крупный мужчина и кинул на пол сумку налички:
— Шесть Моторол Аура.
— Их на весь город шесть. Есть только две.
— Тащи.
Он ушел в подсобку и вернулся с двумя коробками.
— Симки нужны?
— Нет.
— Тогда сто двадцать тысяч.
— На, — мужчина протянул связку рыжих купюр. — Чистые, не переживай, — он посмотрел на небритого продавца и добавил: — Ставки на спорт, слыхал о таком?
Тогда редко использовали термин «лудомания». Со словами было проще — говорили «игромания», относя это к казино. Тем летом большинство из них закрыли, оставив несколько специализированных игорных зон. В Комолово осталась одна подпольная контора с переносной кассой и двумя телевизорами, но принимала она только ставки на спорт.
Зайдя туда после смены, он выиграл пятнадцать тысяч, поставив пятьсот рублей, а спустя два года обнаружил себя в комиссионном магазине посреди зеков, продающих флешки, и пьяниц, отдающих за бесценок краденные мониторы.
— Тебе же не на что копить, — говорила мать. — Чего ты хочешь-то? Ту машину? У тебя ведь нет прав.
Да, он хотел ту машину. Ford Fiesta 2005 года выпуска. Красного цвета, с лифтбеком и автоматической коробкой передач. Он всерьез увлекся автомобилями, и на рабочем компьютере горели тематические форумы.
— Хочешь, кредит возьмем? — предлагала мать.
Это оскорбляло.
Вскоре салон закрыли, и он устроился помощником механика в автосервис. Знаний, на удивление, хватило. Запах масла и бензина говорил о чем-то настоящем, перебивал смрад прошедших лет и вонь неслучившихся женщин. На тридцатилетие он впервые ощутил что-то, кроме объятий матери — коллеги похлопали по плечу, поздравляя. «Приятно», подумалось. Он прижился в коллективе, хоть и не пил. Мать же, напротив, пила каждый день — неизменно шампанское. Неизменно — по вечерам. Он реже бывал дома, и подумывал снять квартиру.
Через два года бытие обрушилось. Утром, стоя в смотровой яме под полусгнившим днищем Тойоты, ему вдруг стало тесно. Участился пульс, сбилось дыхание, в горле встал ком. Руки задрожали, и показалось, что голова то надувается, то сдувается. Он закричал.
— У вас была паническая атака, — сказал потом врач скорой помощи.
— Как это?
— Ну вот так. Приступ тревоги. Это повторится, если уже началось. Из симптомов — дрожь, одышка, онемение, головная боль, тошнота и предчувствие, что с вами непременно произойдет что-то страшное. Но это не опасно и редко длится дольше двадцати минут.
— Короче, шуганный ты, — сказал кто-то из механиков.
— Обратитесь в больницу, к которой прикреплены, — продолжил врач. — Вам выпишут лекарства, — он окинул взглядом мужчин в грязных комбинезонах. — И меньше пейте.
— Я не пью.
— Как это?
— Ну вот так.
Приступы случались раз в две недели, а потом стали реже — раз в полгода или год. Он принимал феназепам и оланзапин. Через пять лет накопил на новенький Фокус, но затягивал с получением прав. В пятницу вышел из дома в направлении букмекерской конторы. Чувствовал, что проиграет, и брел, насупившись, будто готовился сделать неприятное, но нужное дело. Проходя мимо студентов, копошащихся у микроавтобуса, запнулся о сумку и громко выругался.
— Так, не лугаемся! — сказала непонятно откуда взявшаяся китаянка.
— Чего столпились тут! — ответил он.
Здоровенный мужик, стоящий у багажника, заржал:
— Мне казалось, мы маленькие и незаметные…
— Ты себя видел!? Орангутанг… — он сплюнул на теплый асфальт и пошел дальше.
Все деньги проиграл.
Пришлось взять отпуск. Дрянь тоже отдыхала. Он лежал дома и глядел в потолок, переосмысливая себя. Снова начались панические атаки. Приходилось пить все больше таблеток, запивая их водой с медом, а потом лежать в трансе, укутавшись в одеяло. Мать уволили с работы, и она уже два дня не приходила домой. Он представлял, как хоронит в спешке, в дешевом гробу из сосны, и втыкает в землю фотографию, оплетенную траурной лентой «ОТ СЫНА».
Но она вернулась. Вернулась ночью, разбудив пьяным смехом, и не разувшись, пошла в его комнату. На кухне кто-то загремел бутылками в пакетах.
— Я полежу с тобой, сыночка, — мать села на кровать и зевнула. — У нас гости.
— Выйди.
— Почему выйти? — она выгнулась и легла спиной на его живот. — Так хорошо…
— Уйди.
— Ну что ты? — она приблизилась и длинные волосы защекотали нос. Воняло перегаром. — Дай я тебя понюхаю…
— Кто на кухне?
— Валера.
— Какой Валера?
— Валера, наш сосед. Вернулся, представляешь…
— Как это? — он откинул ее и выбежал из комнаты.
Лысеющий мужчина с красными обвисшими щеками, как у бульдога, и раскладывал по столу пластиковые упаковки c сушеной говядиной и нарезанным сыром.
— Бог мой! — сказал Валера. — Тебя и не узнать!
— Откуда ты…
На кухню вошла мать.
— Вот мы и вместе, как тогда!
— Я уехал тогда в ночь, — стал объяснять Валера. — Ты и не помнишь, наверно. Еду, короче, еду, а на выезде из города, у обочины, стоит какая-то баба и рукой машет, мол, подвези. Я думаю, ну хрен с тобой, остановился и…
Он не слушал. Подумал, что есть вещи куда более страшные, чем панические атаки. Валера продолжал:
— …думаю, хоть бы вы отсюда не съехали. И тут из подъезда эта красавица выходит! Я расплакался…
— Правда, расплакался! — подтвердила мать.
— …И квартира, в которой я жил, свободна! Парень при нас чемоданы у двери выставлял. Я номерок хозяйки перехватил. Она сказала: «конечно, заселяйся», — Валера взял бутылку шампанского и затряс ее. — Ты уж зла на меня не держи. Жизнь совсем не простая… — Пробка вылетела, забрызгав всех.
Он кивнул, вытерся полотенцем и ушел к себе. Лег на кровать, закрыв уши. Ждал очередной приступ. Через час мать потрепала по голове. Он обернулся:
— Принеси таблетки.
— Ты некрасиво себя ведешь, — она качалась над ним, готовая упасть.
— Алкаши.
— Все у тебя алкаши. Алкаши водку хлещут и в помойках лежат.
В чем-то она была права. Был ли то алкоголизм, пьянство или легкая зависимость — непонятно. Пить шампанское, пусть и самое дешевое, пять раз в неделю, ходить на работу и следить за бытом — совсем не то же самое, что пить одеколон.
— Принеси таблетки.
Мать держалась за дверь, ловя равновесие.
— Валера твой папа…
Он выпучил глаза.
— Но это не прямо сто процентов! — донеслось с кухни.
— Сына, мы наверное, к нему пойдем…
Тишина.
— А… а по…
— Не знаю. Не хотела говорить.
Но он спрашивал не про это.
— Только вернись. Мне может стать плохо.
***
Эти детские травмы, что снятся нам в страшных снах, и которые мы забываем под утро — ужасы без демонов и нечисти, спящие внутри — временами они пробуждаются, отлично выспавшиеся и готовые к работе. Они портят нам жизнь, вторгаясь туда, куда не следует, и напоминают о себе, даже если мы этого не замечаем. Эти детские травмы — самые беспризорные травмы — сами еще дети. И навсегда ими останутся. За ними не уследить и они не уснут сами, пока их не уложишь.
Прислушайтесь. Он думает тихо, и мысли его шелестят. Он думает чуть тише настенных часов, клацающих стрелкой. Два часа ночи. На кухне пахнет корвалолом, но едва ли это запах спокойствия.
Если страх смерти слабее ужаса, видимого наяву, человек предпочитает смерть. Свою, чужую — неважно: обезумевшие люди выпрыгивают из горящих небоскребов, похищенные жертвы выбрасываются из несущихся автомобилей, избитые дети подмешивают родителям в спирт нержавейку. Однако, послушайте, о чем он думает:
— …почему они не уходили на ночь к Валере, когда я был маленьким?…
Внутри лязгают чувства. В горле неприятное ощущение, как от синяка. На столе — кружка с водой и медом, рядом пустая пачка феназепама, бутылек корвалола и подготовленный нож. Он знает, что она вернется — люди редко раскаиваются не в последний момент.


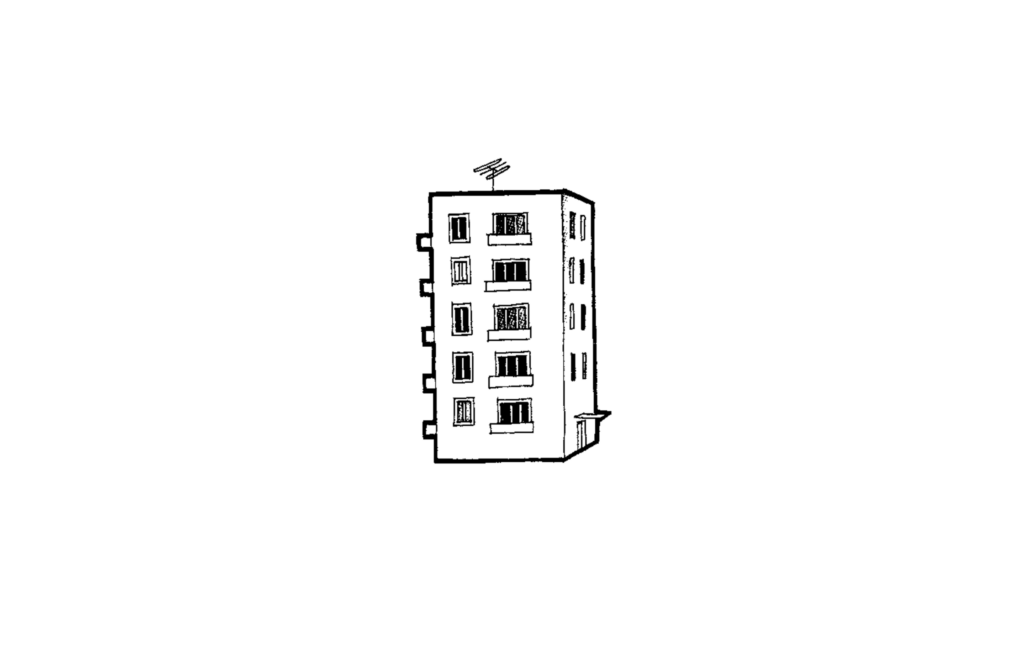







Читаешь, и на лице появляется сардоническая ухмылка. И грустно, и весело. Эти истории могут понять те, кто лишился самого главного в жизни – любви. Глаз дракона вместо заката – это единственная утвердившаяся, прочно засевшая эстетика, а все остальное –»зашуганность, «шугливость», затравленность. Но так или иначе, легче жить, когда понятно: в будке с порнофильмами и дурью. Проще жить, когда нет обертона. Есть только страх перед «паническим страхом», но это минимальное из зол между письмами со странными стихами, последним пролётом многоэтажки, сосновым гробом с памятной надписью и подштанниками в плюс двадцать. sluice
sluice Благодарю за отзыв! dom-rodnoy